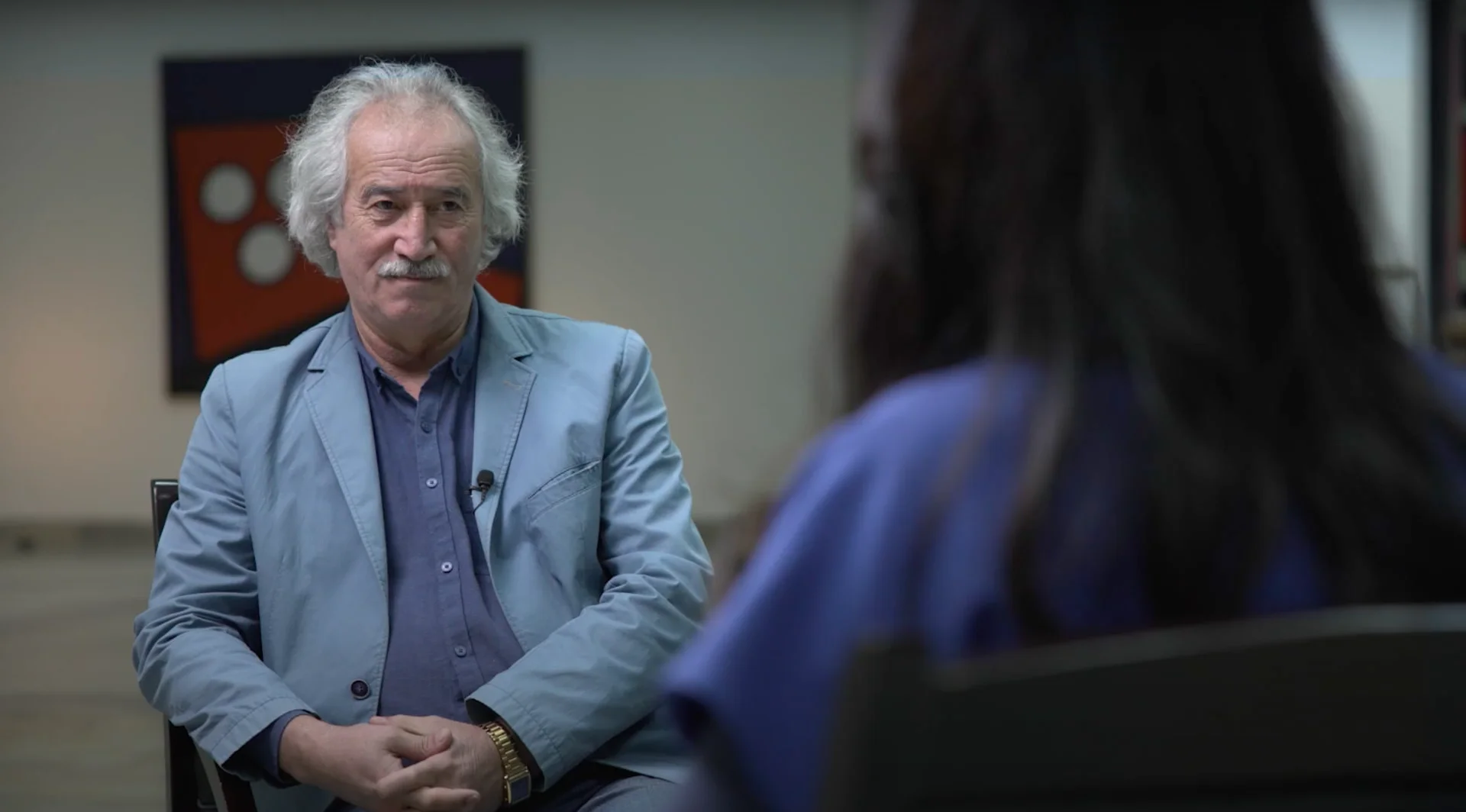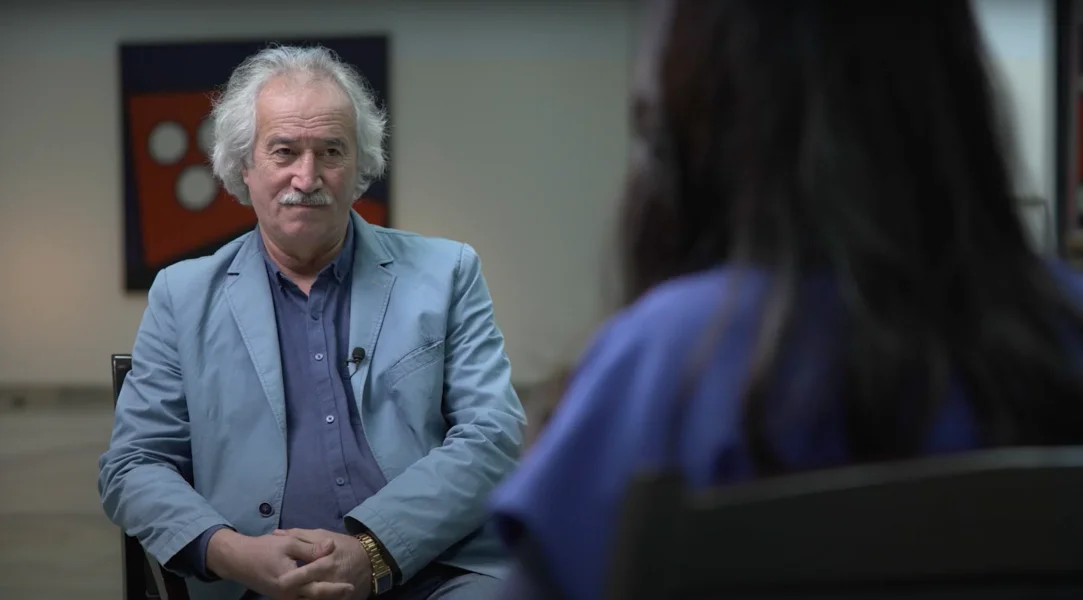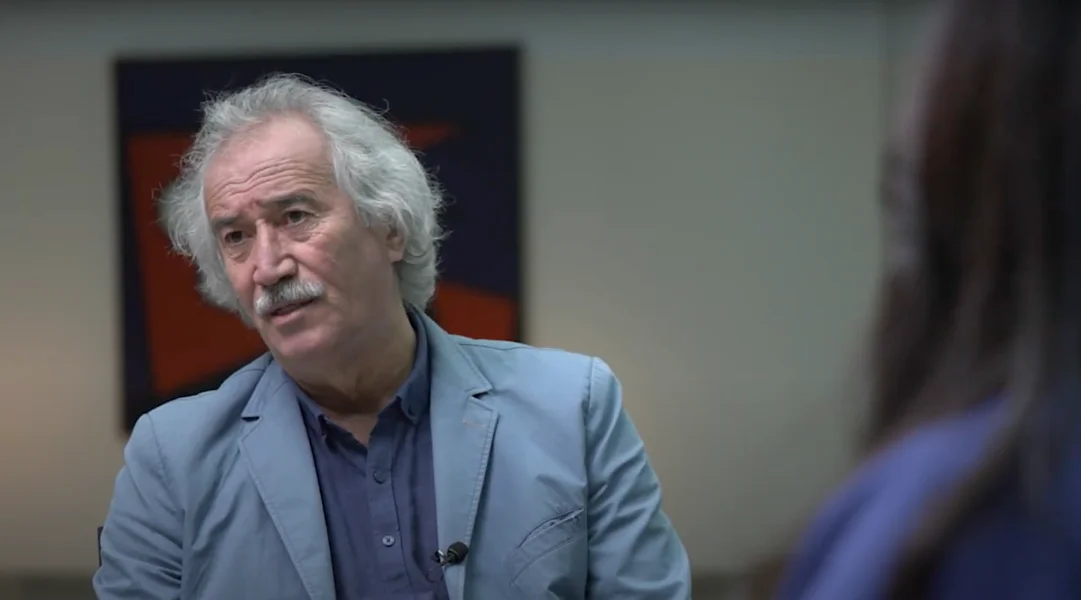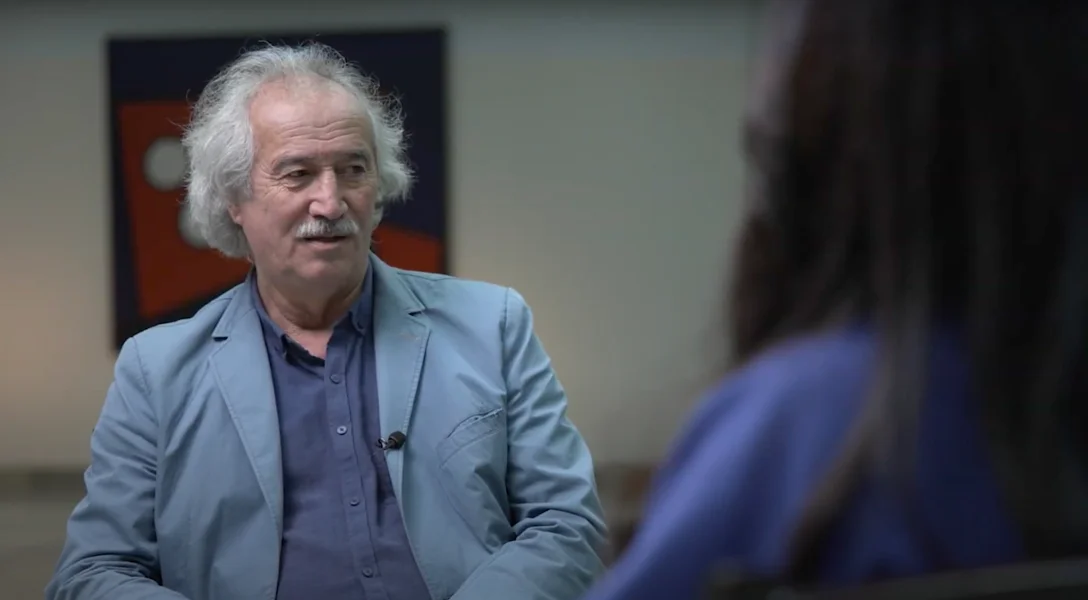Краткий пересказ
Здесь мы собрали основные мысли героя для тех, кто хочет быстро ознакомиться с содержанием. Видео и полную расшифровку интервью мы разместили ниже.
В искусство пришел осознанно, но поздно — в 28 лет. Уверен, что художник должен постоянно меняться, иначе его работы теряют силу. Именно поэтому перешел к беспредметной живописи: это не абстракция, а новый способ выразить себя.
В независимом Узбекистане произведения искусства не создавались — дело в рыночной экономике.
Даже среди профессоров и академиков есть те, кто отвергает современное искусство. Стоит предложить что-то новое — и сразу сталкиваешься с критикой.
В Узбекистане арт-рынок не сложился. Покупательная способность низкая, коллекционеры выбирают дешевые работы, не понимая их ценности. Частные галереи остаются хобби для богатых, а не самостоятельным бизнесом.
Формально ввести меценатство невозможно, если люди не готовы по своей воле тратиться на искусство.
Современное искусство здесь принимают с трудом. Многие художники боятся экспериментов, ориентируясь на ожидания публики, а не на себя. Но любое новое направление сначала вызывает сопротивление — иначе нет развития.
Раньше художники жили за счет творчества, но если удается продать всего пару картин, то на одном творчестве не проживешь.
В художественных вузах учатся в основном девушки, но после выпуска они редко продолжают карьеру: быт и общественные ожидания мешают.
Жить с художником сложно: он подвержен эмоциям, его вдохновение непредсказуемо, а периоды неудач сказываются на близких.
«Хороший художник — голодный художник» — устаревший миф. Все зависит от человека: если верить в свой труд и уметь продавать работы, можно жить достойно.
В Узбекистане нет системы сохранения картин после смерти авторов. Родственники не знают, что с ними делать, и работы пропадают. Нужно централизованное хранилище, иначе страна потеряет часть своего художественного наследия.
Видеоверсия интервью
Этот вариант — для тех, кто предпочитает смотреть и слушать (узб.яз)
Полная версия
Здесь мы предлагаем полный вариант интервью для внимательного прочтения.
— Ибрагим Муталлиевич, интересовались ли вы рисованием с детства? Мечтали ли вы стать художником?
— Каждый человек в детстве интересуется рисованием и пением. Я тоже начал рисовать еще в дошкольном возрасте.
С первого класса и до десятого я посещал Дом пионеров, который существовал в то время. В молодости мы очень стремились к образованию. Отец мой был простым мастером, но я очень хотел поступить в университет. Однако не было никого, кто мог бы меня направить.
В то время существовала организация под названием Художественный фонд. Интересуясь местными художниками, работающими там, наблюдая за их работой и совершенствуя себя, я часто проводил там время. В те времена существовала профессия художника-оформителя, но теперь таких должностей больше нет.
Ибрагим Валиходжаев во время интервью для HD magazine
В каждой организации был свой художник-оформитель. Я работал художником-оформителем в такой организации 10 лет. В 28 лет я подал документы в институт, который назывался Институтом театрального искусства, и мне удалось поступить туда сразу после школы, сдав экзамены.
Для меня начался профессиональный интерес к изобразительному искусству, и с тех пор я продолжаю творить как художник.
— После поступления в институт вы попали в мастерскую Рахима Ахмедова. Расскажите, как он повлиял на ваше творчество?
— Интерес зарождается в самом человеке. До поступления в университет, скажем, даже когда я 10 лет работал художником-оформителем, я выезжал на пленэры, писал этюды, рисовал портреты людей с натуры, глядя на них. Я много работал для себя.
В то время была совсем другая эпоха. Были чайханы, на стенах которых развешивали плакаты Урала Тансыкбаева с кистью в руке. Увидев его, возникали мысли: «Вот таким художником стану и я».
В те времена издавались журналы, посвященные художникам. Я следил за работами Рахима Ахмедова. Хотя он нас не знал, я наблюдал за его работами с юности и восхищался ими.
У Рахима Ахмедова были портреты, которые я помню, — его дочери Нигоры Ахмедовой. Они мне очень нравились, я часто их рассматривал. По воле судьбы, поступив в институт и став студентом, мы сами написали заявление в мастерскую Рахима Ахмедова, и нам довелось работать вместе с мастером.
— Французский философ Альбер Камю сказал: «Абстракция — проявление разочарования действительностью». Ваша работа в абстракции является результатом того, что вы переросли фигуративный стиль?
— На самом деле, это даже нельзя назвать абстракцией. Правильнее будет сказать, что это стремление, а не разочарование. Камю хотел сказать «бегство от реальности».
Знаете, каждый творец должен постоянно меняться. На протяжении всего моего творческого пути я создал множество произведений на тему базаров, современников, в жанре портрета и других жанрах. Теперь, в этот раз, я намеревался создать беспредметную композицию по моей собственной концепции.
Соответственно, произведения были созданы по такой концепции, с учетом размеров нашего зала. Всего было выставлено 28 работ, потому что, если постоянно есть одно и то же блюдо, оно надоедает.
Мы создали произведения о современниках, было сделано много многофигурных картин, и у меня возникло желание создавать произведения одним-двумя цветами.
Абстракция это или продолжение предыдущих работ? В любом случае, правильнее будет сказать, что все цвета, использованные здесь, являются продолжением предыдущих работ. Здесь представлены только произведения, созданные с иным мировоззрением и иным чувством.
— Для художника очень важно посещать выставки, анализировать художественные процессы. По вашему мнению, могут ли они развиваться вдали от Ташкента как центра культурной жизни?
— Нужно смотреть на это с двух ракурсов. Прежде всего, не только Ташкент, не только столица республики — творческий человек должен видеть весь мир, тогда начнут появляться новые идеи. Нужно быть в курсе мировых новостей.
Творец — человек, идущий впереди народа, и он должен вести за собой других людей. Поэтому он всегда должен быть в курсе мировых событий.
С другой стороны, вы спрашиваете, каких результатов можно достичь, работая, скажем, за пределами Ташкента или даже вдали от центра, верно? Например, творческий человек, работая даже в пустынной местности, может выразить то, что у него на душе. Это может быть даже интереснее и лучше.
Поль Гоген, например, уехал жить на Таити. В итоге он стал всемирно известным, даже живя в месте, далеком от искусства. Жизнь там другая, не похожая на привычную. Необходимо также создавать произведения, которые в хорошем смысле отличаются от других. Я думаю, что иногда это (быть вдали — прим. ред.) необходимо, чтобы найти свой собственный путь и самобытное творчество.
— Сформировался ли в Узбекистане арт-рынок? С какими проблемами сталкиваются частные галереи?
— Я не могу сказать, что арт-рынок полностью сформировался, потому что для его формирования в первую очередь должен быть покупатель. Чтобы стать покупателем, человек должен быть не только сыт, но и удовлетворен материально. Только после этого он может посмотреть на произведения искусства другими глазами.
Поэтому у нас не сформировался арт-рынок. Даже состоятельные люди, желающие украсить свои дома, ищут работы на Бродвее (народное название пешеходной улицы Сайилгох в Ташкенте — прим. ред.), выбирая самые дешевые. У коллекционера в коллекции должны быть самые дорогие работы. Как можно быть коллекционером с дешевыми работами?
На протяжении всей своей творческой жизни я сталкивался со многими подобными случаями, когда коллекционеры приходили ко мне с просьбой о работе. Когда они покупали 5-6 работ, они спрашивали о цене, а их переводчики-посредники говорили:
— Не могли бы вы предложить работу подешевле?
Я соглашался, и тогда коллекционер говорил:
— Сколько стоит твоя работа?
— Вот столько.
— Зачем ты снижаешь цену? Мне не нужна дешевая работа.
Бывали и такие ситуации. Поэтому это исходит из понимания наших людей.
Ибрагим Валиходжаев во время интервью для HD magazine
С другой стороны, ваш вопрос о галереях верный. Я открыл первый в Узбекистане частный выставочный зал. Цель его открытия в том, что мы видели, как у нашей молодежи и у наших художников появляются хорошие работы. Поскольку я сам художник, у меня возникло желание собирать лучшие работы с каждой выставки.
Тогда я, имея определенные возможности, начал покупать работы у художников. Я коллекционировал не только в области керамики, но и в прикладном искусстве, собирая различные произведения искусства для своей коллекции.
Однако частные галереи не работают на прибыль. Это хобби. Правильнее будет сказать, что это хобби богатого человека. Он получает доход откуда-то еще и тратит его на покупку прекрасных произведений искусства.
Покупка коллекции не означает наличие галереи.
— Могут ли меценатство в Узбекистане и налоговые льготы для художников по типу ремесленников стать значимой поддержкой?
— Конечно, нельзя насильно навязывать людям то, чего у них нет. Если еще не сформирована культура восприятия изобразительного искусства, ее невозможно принудительно привить человеку.
Поэтому в последнее время государство уделяет этому очень большое внимание: ежемесячно выделяются средства для музеев и галерей, приобретаются работы из мастерских художников и выставочных залов, создана специальная комиссия для поддержки отдельных художников.
Дело в том, что в период независимости у нас не создавались произведения искусства. На вопрос «почему?» можно ответить так: все дело в рыночной экономике. Люди, в том числе и сами творцы, стали уделять больше внимания финансовой стороне, из-за чего не появлялось картин, воспевающих независимость.
Исходя из этого, по инициативе президента сейчас приобретаются работы у художников, что оказывает огромную поддержку творческим людям. Очень хорошо, что сейчас они получают государственную поддержку. Однако невозможно просто так, формально ввести меценатство, если у людей изначально нет к этому внутренней потребности.
— Во Франции предприниматели покупают работы художников на миллионы долларов и получают налоговые льготы. Могло бы это стать более весомой формой поддержки, стимулирующей интерес к искусству даже у тех, кто пока еще не испытывает к нему особой тяги?
— Конечно, я считаю, что это важно. Если, как вы говорите, освободить от налогов людей, которые поддерживают искусство, то это было бы очень полезно. Теперь нужно рассмотреть несколько вариантов в этом направлении.
— Ремесленники освобождены от налогов. Между тем художники тратят гораздо больше времени, чем ремесленники, на создание одного произведения. Многие художники за пять-шесть лет создают всего одну-две работы. Кроме расходов на краски и другие материалы, у художников есть и значительные интеллектуальные затраты. Как вы к этому относитесь? Ведь нельзя оценивать все только по принципу: на холст ушло столько-то денег, на краски — столько-то.
— Хороший вопрос вы задали. Благодаря тому, что уделяется внимание и оказывается значительная поддержка, ремесленничество в Узбекистане сейчас очень развито.
Есть Ассоциация ремесленников, Торгово-промышленная палата, существует внимание к ремесленникам, и благодаря созданным условиям их деятельность активно развивается. Более того, некоторые ремесленные изделия уже выходят на уровень произведений искусства.
А у художников, творческих людей, как раз не хватает подобной поддержки. Нужно учитывать, что произведение искусства может стоить дорого, но это совсем не значит, что «художники продают свои работы по высокой цене».
Ведь бывает так, что за год, за пять лет или за десять лет художник может продать всего одну картину. И это вовсе не свидетельствует о том, что он ведет обеспеченную жизнь.
Ибрагим Валиходжаев во время интервью для HD magazine
Безусловно, внимание к художникам необходимо. Раньше существовало выражение «нетрудовые доходы». Теперь же про художников скорее можно сказать «труд без доходов», ведь они могут упорно работать, создавать десятки и сотни работ в своей мастерской, а за год продать одну или две картины.
Есть даже такие художники, которые за всю жизнь продали всего две-три работы. Но им все равно нужно продолжать творить.
Раньше у нас люди предпочитали жить за счет своего творчества, а не, к примеру, работать в институте или заниматься преподаванием. Однако, если за всю жизнь удается продать лишь пару работ, то на одном творчестве не прожить.
— Почему современные направления искусства, такие как инсталляция и перформанс, до сих пор не приняты в узбекистанском обществе? Причина в отсутствии финансирования таких видов искусства или в чем-то другом?
— Это не связано с финансированием, ведь с появлением каждого нового произведения или новых идей возникает множество вопросов и споров.
Принять что-то новое всегда сложнее: если само создание новшества уже непросто, то его принятие дается еще труднее. Многие наши художники порой не прислушиваются к себе, а задумываются: «Примут ли это окружающие?» — и в таком состоянии создают свои работы.
Поэтому, если не оглядываться на рынок и на мнение окружающих, а слушать свою душу, то, на мой взгляд, именно так открывается путь к тем видам искусства, о которых вы говорите.
Будь то инсталляции, современное искусство или абстракция — если каждый художник творит, исходя из голоса своего сердца, то возможностей для этих направлений станет еще больше.
Даже среди наших профессоров и академиков есть такие, кто отошел от современного искусства и не способен его воспринять. Более того, есть и устоявшиеся за сто лет направления, и стоит вам попытаться предложить что-то новое, как со всех сторон вырастает критика.
Но и к этой критике тоже нужно относиться правильно, нужно уметь ее адекватно принимать, и творец должен быть к этому готов. В таком случае, как вы и сказали, будет появляться все больше современных произведений.
— Критика для художника — стимул к модернизации своих работ или, напротив, она порождает страх пробовать новые направления?
— Нет, творец, который боится критики, не сможет ничего создать.
Прежде всего, у него должно быть свое собственное мнение и свой голос. Если он будет ориентироваться только на чужое мнение, то где же останется его собственная душа?
Поэтому художнику важно прислушиваться к себе.
— В чем причина того, что сегодня среди художников очень мало женщин? Среди Народных художников мы практически не видим женщин, хотя из учебных заведений выпускается много девушек.
— Живопись — это не профессия, творчество само по себе не является профессией.
Если кто-то думает, что можно жить и зарабатывать исключительно творчеством, то это большое заблуждение, поскольку «профессия» — это когда ты занимаешься делом на постоянной основе и обеспечиваешь себя за счет этого дохода.
А творчество — это совсем другое: даже если вам не заказывают работы, вы все равно творите и продолжаете создавать. Поэтому, возможно, это тоже влияет на то, что среди художников не так много женщин.
Ведь если посмотреть на сегодняшние институты, примерно 90 процентов студентов — это девушки, причем часто они талантливее юношей. Однако, к сожалению, после окончания института, когда они начинают взрослую жизнь, многие из них «пропадают» в быту.
Они погружаются в семейную жизнь, и их творческий потенциал уже не развивается. Ведь женщины, по сути, несут большую ответственность за семью, за уклад, и у них нет такой свободы, как у мужчин, которые могут заниматься чем угодно и когда угодно.
Думаю, именно в этом кроется основная причина.
— Профессия художника весьма нестабильна, и участие в бытовой жизни зачастую скорее минус, чем плюс для самого художника. Как вы считаете, ложится ли большая нагрузка на плечи жен художников?
— Быть супругой художника — очень непростое дело. Художника трудно назвать «нормальным человеком». У него бывают периоды, когда вдруг приходит вдохновение, и порой одно неосторожное слово может показаться лишним, а иногда, наоборот, его не хватает.
Когда он погружен в творчество, ему многое не по душе, поэтому жене художника приходится нелегко.
Во время творческого процесса у художника могут быть самые разные эмоциональные состояния. Если работа идет так, как он задумал, счастливее человека не найти. А если что-то не получилось, мир кажется тесным и неуютным. В такие моменты он может, сам того не замечая, «срываться» на своих близких или детях. Поэтому жить в семье с художником действительно очень сложно.
— Актуальна ли сегодня фраза «Хороший художник — голодный художник»? Можно ли сочетать творчество и финансовую стабильность?
— Да, конечно. Как говорится: «Достаточно пожелать — и Всевышний дарует тебе то, чего ты хочешь».
Если следовать поговорке «Хороший художник — голодный художник», то так, возможно, и произойдет. Но нужно говорить иначе: «Я буду жить в достатке, буду продавать свои работы и буду стараться». Тогда все получится. Я, например, дожил до этих лет и не помню, чтобы когда-либо голодал.
Мои картины всегда находили покупателя, в разных странах продано более пятисот моих работ, и я никогда не испытывал нужды.
Мне непонятно, когда художники жалуются на постоянные трудности, ведь все зависит от самого человека.
Главное — твердо верить: «Я буду жить хорошо и творить замечательные работы» и, конечно, неустанно трудиться. Только так можно добиться успеха.
— Совсем недавно в Дубае прошла ваша выставка. С какими впечатлениями вы вернулись?
— Я обратил внимание, что Дубай появился сравнительно недавно: еще 50 лет назад такого города не существовало. Тем не менее он настолько быстро развивается, что сегодня его достижения признает весь мир — прогресс там действительно колоссальный.
Мне было очень приятно организовать выставку в Дубае, потому что именно в таких местах, на экспозициях, начинаешь в полной мере осознавать истинную ценность собственных работ.
Если у себя дома ты продаешь картину за сравнительно скромную сумму, то там можешь реализовать ее в десятки, а то и сотни раз дороже. Конечно, это немаловажно для любого творца, но все же, если работа никому не интересна, то ее не возьмут даже даром.
Когда выставляешься в разных странах, лучше понимаешь, как люди оценивают твой труд и насколько он востребован.
С этой точки зрения я рад, что смог побывать в Дубае.
Сегодня у нас в стране много художников, в том числе пожилых. Иногда случается, что художник уходит из жизни, и его работы оказываются никому не нужны. Родственники говорят: «Я продам эти картины, если кому-то они пригодятся», хотя при жизни он очень их ценил.
Получается, что теперь они не нужны ни детям, ни обществу. Мы, как Союз художников, должны позаботиться о сохранении таких произведений.
Многие уже ушедшие от нас мастера оставили целые мастерские, полные картин. Однако хранить их негде, а потомки ими не интересуются. Возникает вопрос: что же делать?
Нам необходимо создать специальные помещения для таких работ и сделать все возможное, чтобы они были переданы будущим поколениям.
По всей вероятности, сейчас нет возможности или средств, чтобы выкупить эти произведения, но через 50–100 лет каждое из них может быть буквально на вес золота. Об этом нужно задуматься уже сегодня. Ведь прошлые поколения растащили художественные работы по всему миру, и в Узбекистане практически ничего не осталось: мы построили музей Бехзода, но ни одной подлинной работы Бехзода там нет.
Поэтому уже сейчас стоит позаботиться о сохранении искусства тех, кто ушел или находится в преклонном возрасте.
Надо создать для этого особое место и вложить в это максимум усилий — сейчас как раз самое подходящее время.
— У вас есть желание бороться?
— За это?
— Да.
Я думаю про себя: вот у меня вся мастерская заполнена произведениями искусства. И задаюсь вопросом — где их хранить? Кому они будут нужны после меня? Я бы хотел, чтобы все эти работы сохранялись в одном месте, потому что художников, похожих на меня, очень много.
Конечно, это не обязательно должен быть музей — речь не о музее. Главное, не дать этим произведениям искусства пропасть.
Среди них могут встречаться работы разного уровня: хорошие, неудачные и среднего качества.
Было бы здорово создать некую большую базу, где все эти работы собирались бы, регистрировались и хранились в виде коллекции.
А потом, при необходимости, можно было бы ими воспользоваться.
— Сколько нужно времени, чтобы реализовать это в Узбекистане?
— Если найдутся люди, которые этим заинтересуются, времени потребуется совсем немного: можно все осуществить за год-два. Главное — иметь желание.
Ибрагим Валиходжаев во время интервью для HD magazine
Мы сами не можем решить это в одиночку, тут нужны ответственные организации, которые задумаются об этом. Ведь это целое богатство — произведения, которые художники создавали на протяжении всей своей жизни. Наша задача — не дать этому богатству пропасть. Считаю, что это одна из самых серьезных проблем.
Говорю и как председатель Союза художников, и как художник: я бы не хотел, чтобы мои работы исчезли после моей смерти. Даже минутный карандашный набросок я не отдам даром — у него тоже есть своя стоимость.
Когда произведение имеет цену и оценено должным образом, оно становится собственностью. А допустить, чтобы имущество пропало или оказалось разграбленным, — настоящее преступление. Это большая проблема для всей республики.
Возьмем пример академика Владимира Бурмакина, который скончался в возрасте за 80 лет. У него осталось две мастерские, полные картин. Кому они сейчас нужны? Они могут просто пропасть.
Мастерские нужны, а работы, получается, никому. Но их ведь надо где-то хранить.
— У вас есть какие-либо советы для молодых художников и творцов?
— Молодым художникам важно не только создавать новые работы, но и непрерывно работать над собой.
В каждом произведении следует стремиться к новизне, открывая неизведанные грани искусства.
Считать, что вы нашли единственно верный путь и будете следовать ему всегда, — ошибка, ведь уже через год ваши взгляды могут измениться, а еще через год — вновь обрести иное направление.
Главное — постоянно дополнять и совершенствовать то, что уже создано, чтобы спустя десять лет ваша работа превратилась в совершенно иное произведение искусства.
Все это возможно только при условии постоянных поисков и экспериментов. Я убежден, что молодые творцы должны безостановочно пробовать и открывать для себя что-то новое.